В нашем переводе статьи Джеймса Лешера, профессора кафедры философии Университета Северной Каролины и эксперта по древнегреческой философии, изложен обзор темы знания на примерах ранних греческих мыслителей: поэтов и досократических философов.
Греческие философы не были первыми, кто размышлял о природе и пределах человеческого знания. Эта заслуга принадлежит поэтам архаической Греции. К примеру, неспособность женихов Пенелопы предчувствовать ожидающую их катастрофу побуждает замаскированного Одиссея сделать несколько знаменитых замечаний, касающихся умственных способностей человеческого рода. Об этом говорится в XVIII книге «Одиссеи»:
Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят
Здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок.
Ждать впереди никакой он беды неспособен, покуда
Счастье боги ему доставляют и движутся ноги.
Если ж какую беду на него божество насылает,
Он хоть и стойко, но все ж с возмущеньем беду переносит.
Мысль у людей земнородных бывает такою, какую
Им в этот день посылает родитель бессмертных и смертных
Встал Калхас Фесторид, превосходный гадатель по птицам. Ведал, премудрый, он все, что было, что есть и что будет
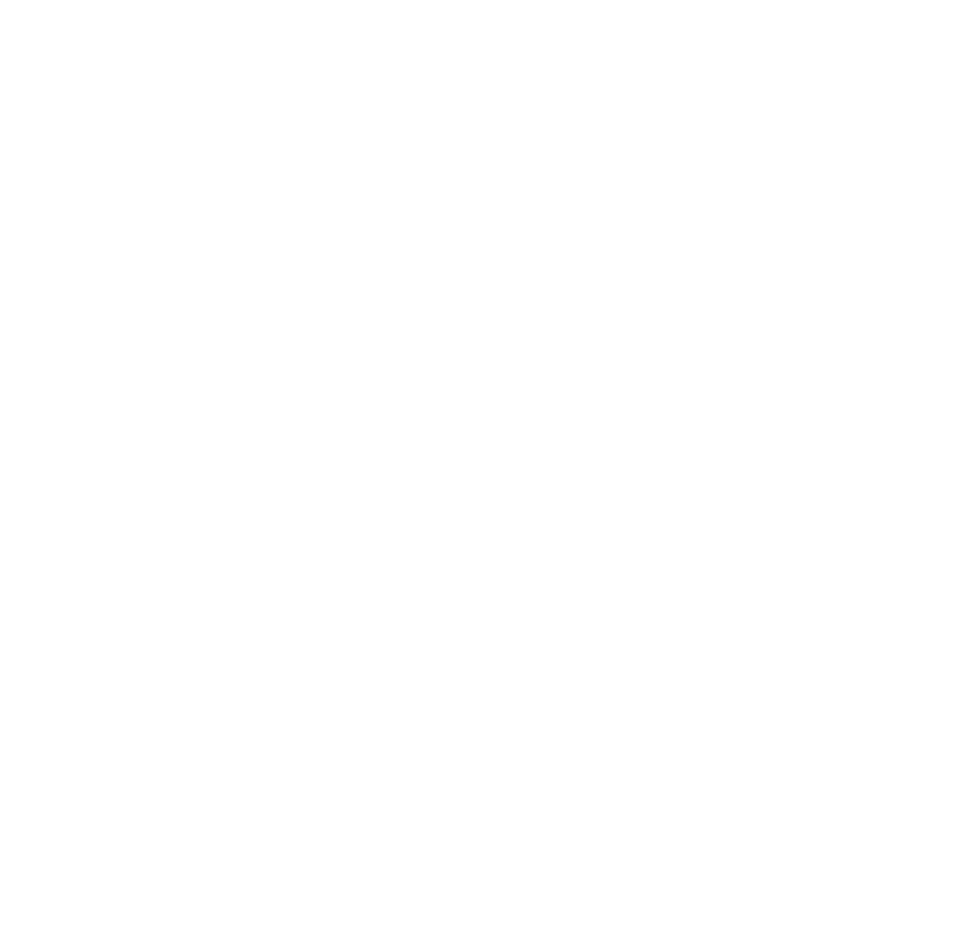
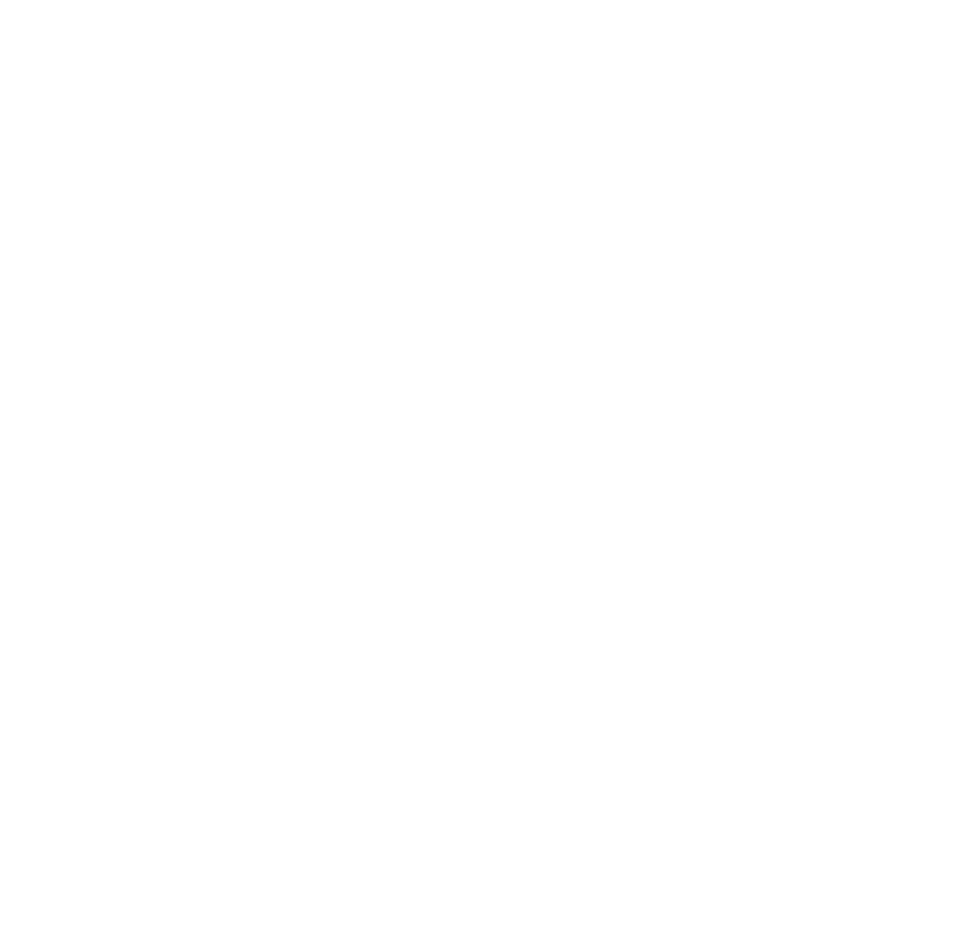
Настроения у смертных, друг мой Главк, Лептинов сын,
Таковы, какие в душу в этот день вселит им Зевс.
И, как сложатся условья, таковы и мысли их
[По воле, мальчик, Зевса тяжкогромного
Конец приходит к смертному]. Не сами мы
Судьбу решаем нашу. Кратковечные,
Как овцы, мы проводим жизнь, не ведая,
Какой конец нам бог готовит каждому
Следы такого древнего «поэтического пессимизма» можно увидеть в учениях самых ранних философов. Из двух древних источников (Арий Дидим и Варрон в DK 21 A 24) известно, что Ксенофан придерживался мнения о том, что «бог ведает истину, а человек лишь высказывает мнения». В том же ключе предупреждает Алкмеон, почти современник Ксенофана:
очевидной истиной (σαφήνεια) обладают [лишь] боги,
насколько же можно судить по вещам человеческим.
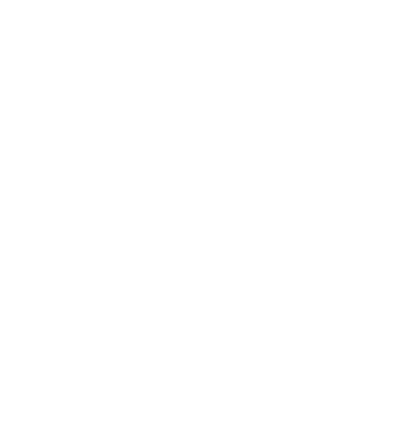
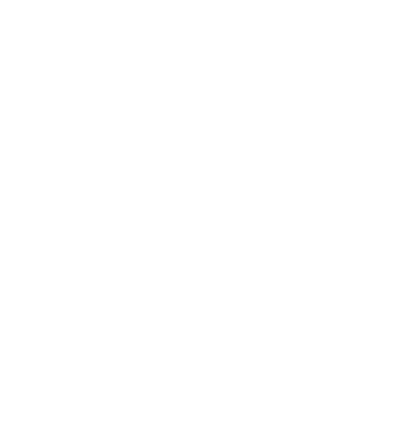
Однако в других отношениях учения и изыскания ранних греческих философов отражают более оптимистическое мировоззрение. Согласно Аристотелю, Фалес был первым, кто стремился объяснить все природные явления, ссылаясь на материальное начало, или первовещество (архэ) (Metaph. I.3983b20).
Если принять изложение Аристотеля хотя бы приблизительно верным, то Фалес и его преемники Анаксимандр и Анаксимен считали, что основные природные причины и принципы открыты для человеческого познания. Поскольку объяснения, выдвинутые милетянами, в дальнейшем претерпевают последовательное усовершенствование, их исследования можно считать началом западной «традиции критического рационализма».
Таким образом, хотя мы не имеем комментариев непосредственно о знании ни от одного из первых философов-ученых, вполне разумно приписать им некоторую степень "эпистемологического оптимизма".
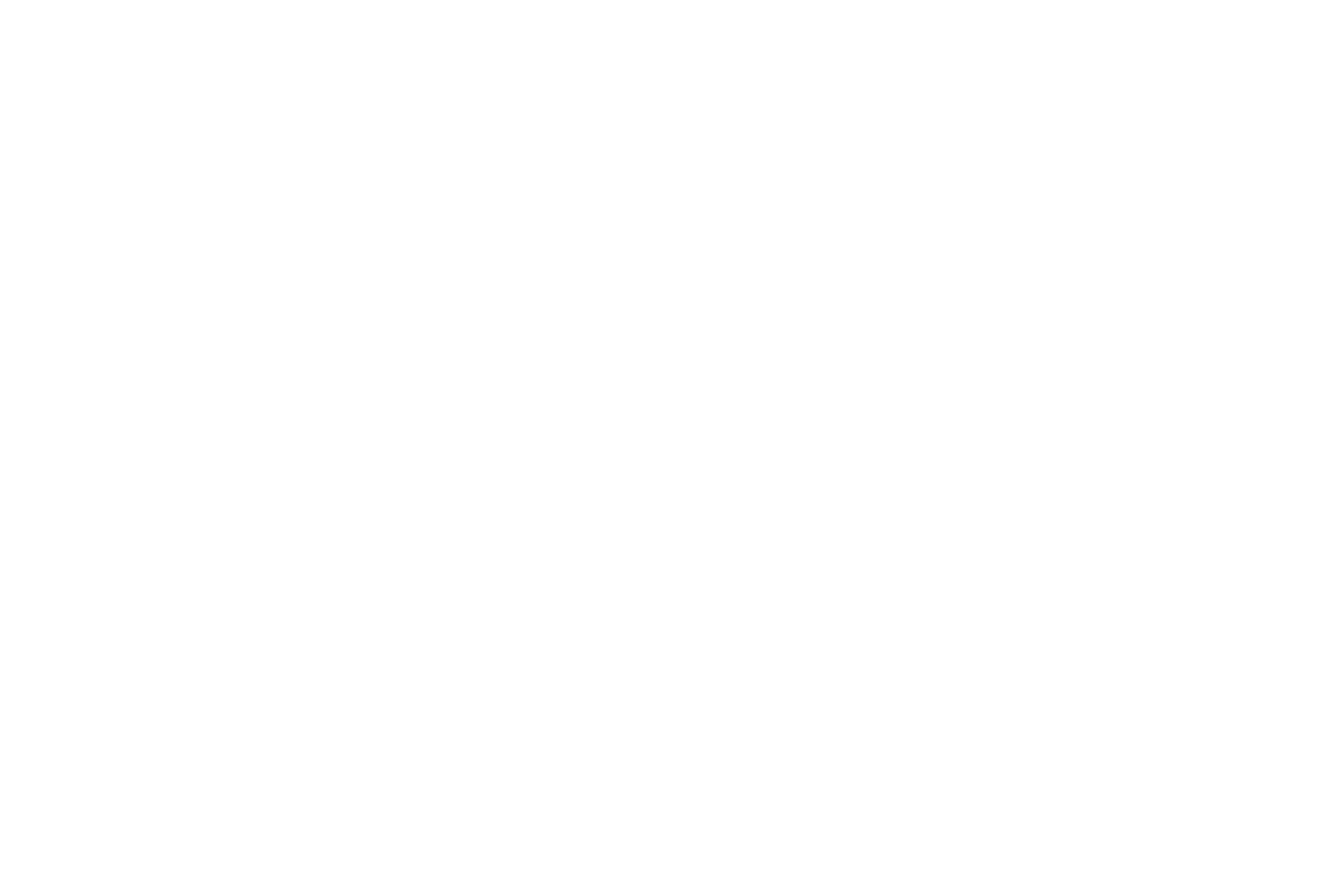
Обычно, ионийские философы упоминались поздними авторами как
знатоки "той части мудрости, которую они называют исследованием природы".
В DK 21 B 18, Ксенофан выступает в поддержку исследования или «искания», не полагаясь на божественные «откровения» или «знамения»:
Но постепенно (χρόνω), ища, лучшее изобретают.
единств поступать таким же образом до тех пор, пока
первоначальное единство не предстанет взору не просто
как единое, многое и беспредельное, но как количественно определенное].
Во второй половине V века до н. э. пифагореец Филолай представил несколько описаний природных явлений именно в этом ключе, выделяя "Ограничивающее" и "Безграничное" как два составных элемента "природы во вселенной как целого и всего, что в ней" (BI и 2) и утверждая, что ничто не может быть познано без числа (B4). Богиня из поэмы Парменида также поощряет "исследование", хотя и другого рода. Она призывает своего ученика перестать мыслить о привычных впечатлениях и вместо этого сосредоточиться на elenchos: "проверке" или "критическом обзоре", то есть возможных способах мышления о том, "что есть".
По крайней мере, в этих случаях философы стремились не только убедить читателя в истинности своих новых доктрин, но и описать процесс, с помощью которого истина может быть познана каждым.
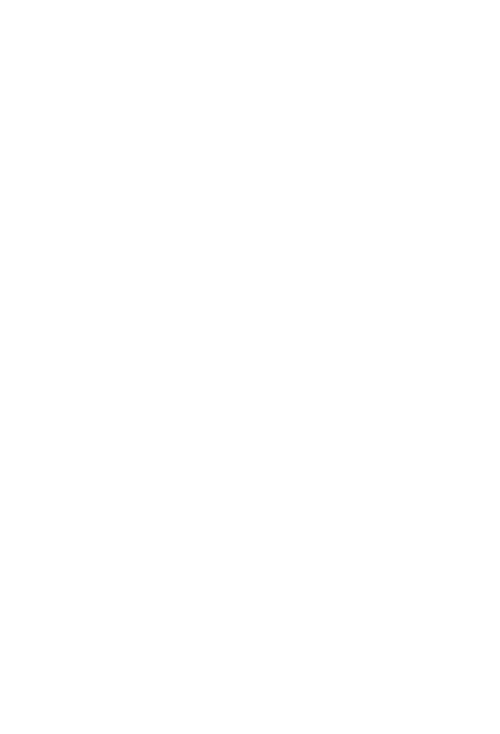
Начало Филеба в старейшей из сохранившихся средневековых рукописей, Кодексе Кларка, написанном в 895 году (Оксфорд, Бодлианская библиотека, Кларк 39).
Подчеркнуто главной линией рассуждения в «Филебе» является ответ на вопрос, что в большей степени является благом «для живых существ» – удовольствие (ἡδονή) или разум (φρόνησις).
Однако большую часть диалога занимают несколько второстепенных рассуждений: 1) «Диалектический раздел»; 2) «Четырехчастное деление сущего»; 3) Рассуждение о видах и происхождении удовольствия и страдания; 4) Рассуждение о видах и иерархии наук (ИФ РАН «ФИЛЕБ»).
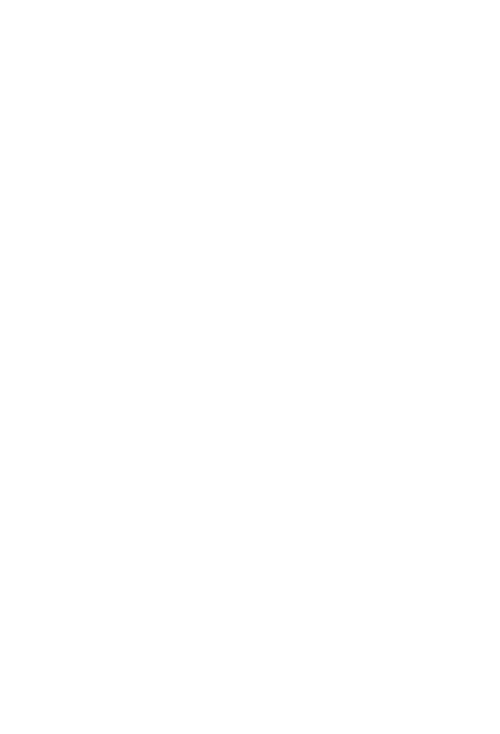
Начало Филеба в старейшей из сохранившихся средневековых рукописей, Кодексе Кларка, написанном в 895 году (Оксфорд, Бодлианская библиотека, Кларк 39).
Подчеркнуто главной линией рассуждения в «Филебе» является ответ на вопрос, что в большей степени является благом «для живых существ» – удовольствие (ἡδονή) или разум (φρόνησις).
Однако большую часть диалога занимают несколько второстепенных рассуждений: 1) «Диалектический раздел»; 2) «Четырехчастное деление сущего»; 3) Рассуждение о видах и происхождении удовольствия и страдания; 4) Рассуждение о видах и иерархии наук (ИФ РАН «ФИЛЕБ»).
Сдвоенная сила «сгущения» и «разрежения» Анаксимена, справедливость Гераклита, справедливость и необходимость Парменида, любовь и вражда Эмпедокла, гармонизирующая сила Филолая, упорядочивающий космический разум Анаксагора и необходимость Демокрита — все они представляют собой вариации на исконно милетскую тему: природа действует закономерно, а значит, понятно.
В частности, четыре ранних мыслителя – Ксенофан, Гераклит, Парменид и Эмпедокл – исследовали условия достижения человеком знания, особенно в форме глубинного понимания природы вещей. Их размышлениями не исчерпывается раннегреческий интерес к эпистемологическим вопросам, однако в сочинениях именно этих философов есть множество идей, играющих важную роль в более поздних представлениях о знании

Как уже говорилось, замечания Ксенофана о знании лучше всего читаются в свете его интереса к религиозным вопросам: силы человеческого разума, как и другие человеческие способности и достижения, должны сопоставляться с превосходящими познавательными способностями верховного божества. Например, в DK 21 B23 говорится:
«Один величайший среди богов и среди людей бог
Не подобен смертным ни телом, ни мыслью».
«Весь он видит, весь мыслит, весь слышит»;
«Всегда он пребывает на одном и том же месте, никогда не двигаясь, переходить с места на место ему не подобает»;
«Но без усилия силой ума он все потрясает».

«Что касается истины, то не было и не будет ни одного человека, который знал бы ее относительно богов и относительно всего того, о чем я говорю. Ибо если бы даже случайно кто-нибудь и высказал подлинную истину, то он и сам, однако, не знал бы [об этом]. Ибо только мнение - удел всех».
Сходство между идеей Ксенофана о высшем существе как "едином" и "неподвижном" и взглядом Парменида на "что есть" как "вечное, непрерывное, неподвижное и неизменное" привело к тому, что некоторые поздние авторы стали считать Ксенофана основателем школы элеатов. Предполагалось также, что он придерживался строго рационалистической концепции познания, то есть "отрицал чувства в пользу разума" (см. сообщения Аристокла и Аэция в A49). Мнения ученых относительно того, существовал ли Ксенофан Элейский, по-прежнему расходятся, но большинство подозревает, что объединение этих двух мыслителей было основано главным образом на двух нечетко сформулированных замечаниях Платона (Soph. 242d) и Аристотеля (Metaph. I.s 986b21).
Многие черты поэзии Ксенофана, а также некоторые взгляды, приписываемые ему в античных свидетельствах плохо согласуются с образом философа, отвергающего достоверность любого чувственного опыта. Например, в поэме о симпосии в BI он подробно описывает пиршество, бывшее в том числе и пиршеством чувств.
«И то, что люди называют Иридой (радугой), есть облако, на вид пурпурное, красное и зеленое» (В32)
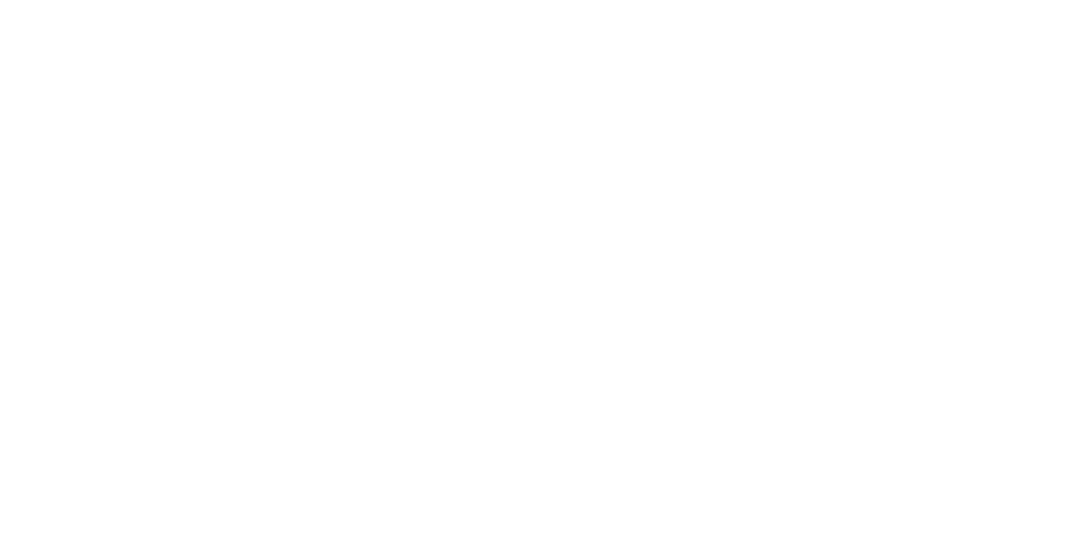
Симпосий (от др.-греч. συμπόσιον) — ритуализированное пиршество в Древней Греции. Симпосий проводился после трапезы у домашнего алтаря.
Ксенофан сообщал, что на симпосиях устраивались артистические представления, проводились конкурсы импровизированных речей и игры в сравнения, и разгадывались загадки.
Другие фрагменты и свидетельства демонстрируют интерес Ксенофана к феноменам, которые можно обнаружить в отдаленных местах: наличию воды в подземных пещерах, месячным «затмениям» (ежегодному исчезновению солнца в северных широтах?), горам и извержениям вулканов на Сицилии, необычному электрическому явлению, известному как огонь святого Эльма, расходящимся представлениям о богах от Фракии до Эфиопии и различным социальным обычаям от Лидии до Египта.
В одном особенно показательном двустишии Ксенофан противопоставляет популярное представление об Ириде - богине-вестнице радуги в традиционной греческой религии – радуге как метеорологическому явлению, которое «созерцают»:
Ксенофан утверждает, что квинтэссенция природного чуда,
радуга, должна быть описана и понята не в терминах
традиционного имени и сопутствующего мифического значения, а скорее
как «облако, фиолетовое, красное и зеленовато-желтое, которое можно созерцать».
В этих фрагментах Ксенофан, похоже, не только принимает чувственный опыт как надежный источник знания, но и призывает использовать свои способности к наблюдению чтобы узнать больше об окружающем мире.
Основная мысль замечаний Ксенофана в B34 заключается в том, что ни один человек не постиг и никогда не постигнет истину о
высших причинах - атрибутах богов и силах, которые
управляющих природным царством. Обоснование этого утверждения
в тексте не приводится, но два соображения представляются особенно подходящими: (1) учитывая контраст между божественными способностями и способностями смертных, который Ксенофан показывает в других фрагментах, мы можем быть уверены, что ни одно смертное существо не способно обладать богоподобным одномоментным видением «всех вещей»; и, (2) учитывая распространенную ассоциацию sapheneia с получением непосредственного доступа к событиям и состояниям мира, наша неспособность наблюдать за происходящим непосредственно исключает всякую возможность познания ясной и определенной истины (to saphes) о них. Гипотетическая аргументация, содержащаяся в строках с третьей по пятую, усиливает этот вывод. Никому не следует приписывать такое одномоментное видение только на основании того, что он описал и, возможно, даже успешно предсказал отдельные события.
В этих наставлениях Ксенофан стремился установить верхний предел
для поиска истины, предупреждая своих учеников, что ограничения,
присущие человеческой природе, всегда будут мешать в познании самых важных истин. Однако в B18 и B32 он, похоже, поощряет исследование природных явлений и выражает свое предпочтение к тому, чтобы
«искать» самому, а не полагаться на божественные откровения.
Таким образом, нам следует помнить Ксенофана не как основателя
школы элеатов, но и как защитника и предостерегающего критика
ионийской науки.
- Фрагмент B1 Анаксимандра Милетского дается по переводу на немецкий Ф. Ницше. См.: Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху Греции. М., 1994. С.192-253. — Электронная версия: Ф. Ницше «Философия в трагическую эпоху Греции» (дата обращения: 26.10.2025).
- Гомер. Илиада / пер. с древнегреч. В. В. Вересаева. — Москва: Художественная литература, 1969. — 432 с.
- Гомер. Одиссея / пер. с древнегреч. В. В. Вересаева. — Москва: Художественная литература, 1969. — 400 с.
- Лебедев А. В. Фрагменты ранних греческих философов. Часть I: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Издание подготовил А. В. Лебедев. — Москва: Наука, 1989. — 576 с.
- Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С.192-253.
- Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи; Авт. вступ. ст. и ст. в примеч. А. Ф. Лосев; Примеч. А. А. Тахо-Годи. — М.: Мысль, 1994. — 654, [2] c. — (Филос. наследие).
- Эллинские поэты в переводах В. В. Вересаева. — М.: Художественная литература, 1963. — 448 с.
